В одиночестве познается истина,
которая — в вине
и в одиночестве...
(из путевых моих заметок)
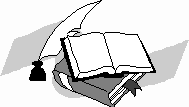
Михаил Полевщиков
Твое здоровье, Поль Гоген
В одиночестве познается истина,
которая — в вине
и в одиночестве...
(из путевых моих заметок)
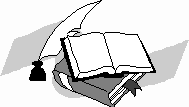
ногда я путешествую во времени. Для этого нужна ночь, и одиночество нужно непременно, и комната, в которой лишь ты и призраки, тобой же сотворенные, живущие за счет тебя, твоей воли и фантазии. — Все это, плюс осознание всего этого. Обостренное осознание — ночью, одиночеством и спиртным. Так что спиртное требуется, и в количестве достаточном. Оно заменяет билет на поезд, самолет, пароход (дирижабль, кабриолет, луноход, караван верблюдов) — выбрать есть из чего, был бы только билет. Можно, правда, и без билета — зайцем. Но зайцем — какое уж тут путешествие. Мелок зверь, робок. Спихнут, невзначай, с парохода (сдует, смоет, спугнет) под копыта верблюдов — беда. Нет, не для робких — путешествие во времени. А по сему — билет необходим. Стоимость билета, то есть его количество, объем, удельный вес и пр., определит каким классом ты тронешься (в смысле — улетишь). Ну так вот, взял билет и поехал (побрел, поплыл, поскакал — зависит от темперамента и маршрута), и до рассвета, до первых ворон, кочующих от леса к дому и от дома к лесу, спросыпу и натощак хрипло орущих.
Маршрут выбираю по собственному усмотрению. Удостоверившись в наличии билета (то есть как следует дерябнув крепкого), погружаюсь в музыку и видения прошлого. И видения эти проходят чередой картин, воплотившихся в живую форму, не только осязаемую, но и ощущаемую физически. А погрузившись, реально переживаю радость и боль, и запахи, и даже температурные колебания — полуденный зной и февральские снежные ветры. Но не замерзну и не растаю. Спиртное — вот оно — его и приму для сугреву иль охлаждения. И, видения причудливым образом сплетаются в узоры, сливаются в единое и рассыпаются разноцветными кусочками смальты, серебристыми хрусталиками. В каждом из них — своя картина, фрагмент жизни или целая жизнь. Как в детском калейдоскопе с цветными стеклышками. Чуть-чуть повернешь, и картина меняется. Величайшее изобретение человечества — детский калейдоскоп. В нем — подобие мира.
Ах, как кружится голова. Как глубоки впечатления. Как достоверны картины. И ты в них — множественно отраженный, преображенный многократно, старец и младенец, титан и карлик. И рядом с тобой те, кто дорог тебе, к кому ты и поехал.
Но как же бьется сердце. И бедная моя головушка. В ней — шторм, цунами. Сбавим скорость. И, чтоб голова не кружилась, примем по маленькой...
Ну вот, чуть-чуть успокоился. Штормить перестало. Легкий бриз. Узоры, словно северное сияние, ласкают и успокаивают. Бесконечные трансформации и комбинации образов в этом сиянии. Причудливость этих комбинаций невозможно привести ни к какой логической системе. Вглядевшись, можно увидеть то, чего никогда и не было, но могло быть вполне. Правда, это предполагемое не всегда желаемо тобой. Иль, вдруг увидишь то, что было в действительности, но чего видеть вновь не хочется, от чего хочется бежать подальше, забыть. Прошлое, подчас, встречает неприветливо. И не кусочками смальты, а картечью осыпает тебя прошлое.
то ж, спешу сменить станцию. Где мой билет? Вот он...
О билете надолго забывать нельзя. Приходится предъявлять его, кочуя от станции к станции, от кусочка к кусочку, от дворца к хижине и от хижины к дворцу. Дело предъявления билета, скажу я вам, очень утомительное, но необходимое чрезвычайно. Да и наполняет путешественника (то есть меня) особым смыслом и достоинством, если не первопроходца — ведь был я уже здесь, был — то археолога, кладоискателя. Примерно так должен был чувствовать себя Шлиман, откопавший Трою. Наверняка, человек пьющий. Если и не пьющий, так потом запил. После Трои и запил. И, в этом отношении, я ни чуть не лучше (или не хуже) Шлимана. Пью и путешествую под звуки старой (или старомодной – ?) музыки. Блуждаю из года в год, иногда перемахивая через десятилетия.
Есть у меня заветный чемодан, цвета перезревшей вишни, доверху набитый детскими рисунками. Есть там и первые литературные опусы моих детей. А также рисунки, снабженные корявыми буквами. Дядька, к примеру, стоит. Чудной дядька, естественно, но вполне от тетек и прочих предметов отличимый. Дядька, к тому же, не просто так — дядька, а Папа, — это я, стало быть. А рядом — плюха кислого виду, истекающая вислой бахромой. И подписи: это, мол, — папа, а это — грусная солнца.
Или рисунки с длинными, бегло начертанными (или же тщательно выведенными) шеренгами слов и фраз. Сторонний, непосвященный человек назвал бы их детскими каракулями. Но то — сторонний, — не я. Я-то знаю, что значат эти манускрипты, о чем они повествуют. Я — пожалуй единственный толкователь во вселенной, единственный специалист, эксперт, способный расшифровать эти письмена. И, углубившись в расшифровку, я оживляю прошлое. Многое в письменах посвящено мне. Многое написано в соавторстве со мной. Чемодан велик. И он содержит все самое ценное, что было и есть в моей жизни. Это — очень долгое путешествие, немного грустное, и, все же, самое светлое из всех, когда-либо мной совершенных.
...Так я встречаю утро и первых ворон...
В моей власти изменить маршрут, сейчас или попозже. И вызвать к жизни ушедшие образы друзей и недругов — в моей власти.
Боже, сколько всего здесь. Папки, папки, папки, тетради. Старые фотографии. Совсем старые фотографии. И письма. Ко мне письма или мои собственные, мною некогда написанные, но, увы, неотправленные. Начатые, да незаконченные. Иль написанные, но переделанные (что за причина их переделать — тоже пища для исследователя, глядишь — новый маршрутец образуется, а, стало быть, примем красненького... и поехали дальше по новым дорогам). ...Ну так вот, переделанные и уж после этого неотправленные... Черновики, черновики, черновики — рассказов... ба, стихотворных вирш... и... и всяческих письменных упражнений. О функциональной задаче которых говорить просто смешно. Захочу посмеяться — поговорю о функциональной задаче, а так — не буду. А лучше, я приму ... для смеха ... малость и пороюсь, — в этой вот груде рисунков пороюсь. Наброски, наброски, почеркушки всякие... Грустное отложим, грустное — на потом. Укрепимся, и уж после этого непременно — грустное. А вот это — да... Ха-ха... Когда ж это я так... Умел, умел... Однако...! Это, пожалуй, будет героическое мое путешествие.
Картины. Ну.., тут малостью не обойтись. Картины — и вдруг малость. Их надо осознать. Но! Поспешай не торопясь — первая заповедь серьезного путешественника. Иначе, голова закружится — от впечатлений, стало быть.
а. Все здесь история, судьба, загадка, полузабытый миф... Да... Руины, ждущие своего исследователя и рестовратора. Меня ждущие. Атлантида, Помпея, Троя. До-олго стояла Троя. И жили здесь люди, и вершились дела. Но порушили, порушили Трою. Кто ж порушил? Ахейцы? К свиньям ахейцев. Болтуны и погромщики — ахейцы. Время порушило. А ахейцы — так, мелочь, статисты. Пряник им показали и повелели — рушь Трою, будет вам тогда и пряник. Они и рады стараться. Мало пряника, пресытились пряником, оскомину им набили? — Так мы вас палкой погоним. Рушь, зараза, ахеец, Трою! Так что после палки, пряник желанным, медовым покажется, с ромом и мальвазией. Наглотались ахейцы рома с мальвазией до скотского состояния — и ну рушить Трою! Порушили, и давай песни орать непотребными голосами, про то, как Трою они рушили. Орали-орали, да и призадумались — Чой-то мы, братья-ахейцы, орем непотребными голосами, когда у нас Гомер есть. Пусть он, зараза, изобразит. Под микитки его, братья! — Ну ты, бля, писатель, изобрази, какие мы е-ер-рои..!
Куда тут денешься. Нетрезвые люди, ясное дело — прибьют, коли не изобразишь. Ну и изображал. Красиво, однако, изображал. Рому с мальвазией примет, и изображает. С души воротит — похмелится тем же ромом с мальвазией (иль какой другой дрянью — типа амброзии с нектаром), и опять изображает. Так что, всерьез говорить об ахейцах — только время терять. Не они — так другие. Ахейцы пьют и рушат Трою. Гомер пьет и изображает — про то, как ахейцы Трою рушили. Шлиман Трою находит и пьет от печали и жалости к троянцам, ахейцам и Гомеру. Я вот сейчас выпил, ... но ахейцев не пойму. Гомера понимаю, а их не пойму. Нет, понять их конечно можно, и даже просто — их понять. Люди дикие, подневольные и нетрезвые к тому же — пожалеть бы их. Но принять их — нет, не приму. А вот Шлимана — от чего же, и понять, и принять можно. Я сам такой, сам себе Шлиман. Ахейцы что? — Тьфу на них с ромом и мальвазией... Время — дело другое. Оно все это замыслило. Оно рушит.
Но если разобраться, если всерьез задуматься... Принять еще чуть-чуть рому с мальвазией и еще немного подумать... То и приходишь к выводу — время тоже ни хрена не порушило. Не рушит оно, лишь меняет. Вечная перемена узоров, картин, цветных стеклышек. Тот же калейдоскоп. Бесконечная комбинация старых и новых образов. И уж от исследователя зависит, что он тут найдет — пыльные руины, иль письмена, содержащие мудрость, — груду мусора, свалку, или клад. И что дальше будет делать исследователь, порывшись в троянских руинах. Чихать ли от пыли и матерится? И от раздражения и безнадеги проматерившись, изречет — не фига здесь копаться, сплошное говно здесь, плесень, труха. Посему — зарыть, засыпать, похоронить. И глядеть в светлое будущее с оптимизмом, уповая на новое поколение, выбирающее “Пепси”... Лично я предпочитаю руины и путешествия во времени — эти узоры, сотканные из прошлого и будущего. Для меня они и есть настоящее — самая значительная, может быть единственная реальность. Пью и пишу картинки, точно так же, как путешествую. И путешествую точно так же, как пишу картинки и пью. Случается, пишу их на холсте (бумаге, картоне — не важно). Красками (карандашами, углем, повидлом — значение не меняется). Частенько обхожусь без красок и холста. И выходят они у меня идеальными — из грез и воздуха сотканными. Любо-дорого смотреть. В любом случае, вижу я все тот же калейдоскоп времени. Я — и творец его, и сторонний наблюдатель, и элемент его узоров. Я — вечный странник, блуждающий в его мирах. И, как водится у путешественников, пишу путевые заметки, — либо те же картины. Бывает, оставляю лаконичные записи (благо, четыре стены в моем распоряжении), подобные тем, что украшают многие стены мира. Да и не только стены — скамейки, скалы, деревья, песок — перечень длинный. К примеру, “Здесь был Вася”... Стараюсь, конечно, не опускаться до такой банальности. Глупо уверять себя и человечество, что я — не Вася. Лишь раз так впрямую и тиснул на свою, заметьте, собственную стену. Да и то по просьбе, видимо, дорожного моего, но далеко не случайного знакомца и попутчика —
— Здесь был Поль Гоген.
аково! Мы с ним крепко сдружились. Но, на какой же неведомой станции столкнулись мы — не вспомнить. Путь от заката до рассвета ох как долог...
И где ж его сейчас носит? Грущу я без него.
...И ночь была щедра на закаты и на рассветы, и времена года менялись не в очередь. Но чаще, по неведомой мне причине, попадал я в осень, позднюю. Где-то там мы и свиделись.
...Хоть происходило все летом, уж это я помню точно — 29-го июня...
...от заката, до рассвета...
...в день (вру — в ночь) моего рождения. Луна была? — Непременно. Полная. Не скажу, что нахальная, но в высшей степени самоуверенная. — Ну правильно, такая она и есть, все она может. Впрочем...
Впрочем, солнце тоже было. Скромно себя вело, деликатно...
Был снег, временами с дождем...
За окнами жарко. Комаров — пруд пруди. И ночные бабочки. И подвывали нежно — поздние птицы в хоре с ранними котами и лягушками...
Да в самом начале путешествия, в соседней конюшне (тут рядом, через двор) отелилась корова. Добрый знак, лучшего не придумаешь. Новая жизнь. И ожидание, и предвидение небывалых впечатлений и замечательных знакомств. А мне уж 37. Чудеса. Под терпкий, густого янтаря “айгешат”, всамделишнего армянского разливу, и под звуки уж северной музыки... Какие причудливые узоры, смешения, трансформации. Да и корова, подумать только — отелилась в конюшне. А лошади и пони приветствовали корову-мать и поздравляли ее, сдержанным ржанием отзываясь на ее истомленный, но довольный (не без гордости) бархатный мявк — мол, все в порядке, тетка, ни о чем не беспокойся, не выдадим, ни тебя, ни чадо твое мокроносое. Чувствуй себя у нас на конюшне как дома.
Но, если на это дело посмотреть беспристрастным, нелошадиным взором, то и выходит, что отелилась корова все же в хлеву, а не на конюшне. А вот лошади, как раз, ее в хлеву и приветствовали, живя там же, в хлеву, считая его при этом конюшней. Там же, в хлеву, а не на конюшне, отвечали они сдержанным ржанием на бархатный (опять же — не без гордости) коровий мявк. Впрочем, какая разница. Этих добрых зверей квартирный вопрос испортить не успел. Да оно и не важно...
А важно то...
что рядом с новой жизнью...
под солнцем и луной...
под снегом и дождем...
под звездами и приветливым абажуром, во время долгого странствия моего, гостил у меня дома Поль Гоген...
Гостил и поздравлял меня с теленком и 37-летием моим. Пил со мной янтарный айгешат и поздравлял.
И с тем поздравлял, что есть у меня такой заветный чемодан, время от времени пополняемый манускриптами и пиктограммами, а у него вот, увы, не было. А потому я — не в пример счастливее, чем он.
Все это верно, Поль — говорил я, — но вот ты дышал океаном, окунался в лазурные воды и какал кровавым поносом на Панамском перешейке. И любили тебя дивные женщины с кожей цвета янтарного айгешата. И дарили тебе плоды агавы и свои ласки дарили. И был у тебя чудесный, тобой же изукрашенный узорами ларец сандалового дерева, в котором укрывал ты дивные свои, совершенно сумасшедшие после ласк и агав, рисунки, — укрывал от исполинских тропических крыс и исполинских же колониальных чиновников. А я вот, увы, пятый год дальше Мытищ не езжу. Заточен — не вырваться. И не видать мне Южный Крест, не дышать муссонами и пассатами, не принимать ласк янтарнокожих дикарок, не вкушать агав, пахнущих океаном. И, ежели приключится кровавый понос — что вряд ли, по причине малокровия и кормления макаронами на постном масле — то уж до Панамского перешейка я не добегу. А произойдет все это, скорее всего, где-нибудь в районе Лианозова, иль Вербилок (что немногим дальше), от безнадеги и тещиных систематических обличений. Да, Вербилки. Между пакгаузами, сараями, пивным ларьком и билетной кассой. Какой позор... На все Вербилки позор.
И отвечал мне Поль. И в глазах его, и в голосе была укоризна, но не было упрека, и насмешки не было.
— Ну и дурак же ты. Вот, к примеру, теленок... Он только народился, и еще дурак. А ты? Тебе только 37 стукнуло, а ты уже дурак. Ну что тебе перешеек. На кой ляд тебе он. Ни все ли равно, где какать кровавым поносом. И чем тебе, дураку, Вербилки не угодили. Дикарки, положим, есть везде. Я уж знаю. И с кожей цвета айгешата, и с кожей розового крепкого, даже с кожей крепкого белого тоже есть — а это, я скажу тебе, ничуть не хуже. Более того, это просто замечательно — белое крепкое. А что ласками не дарят, так ты сам их пугаешь. Гонишь ты их, ну вспомни, охломон, скольких ты прогнал — они и чахнут, от такого безобразного твоего к ним отношения и от неизрасходованных к тебе, охломону, ласк. Чахнут и меняют цвет кожи от белого крепкого к крепкому розовому и обратно. И, что хуже всего, идут от обиды пятнами. Коньячными, к примеру, на фоне июньского Шартреза. Как это ужасно — идти пятнами на фоне июньского Шартреза. Ты это хоть замечал?
— Замечал, конечно, да, но... не так истолковывал. Думал, это они от злости пятнами идут, по причине стервозности.
— Далась тебе стервозность, это уж дело естественное — стервозность, от природной их предрасположенности, и не тебе, дураку, все менять. Ты меньше бы истолковывал, толкователь. Истолкуют без тебя, по прошествии времени, найдется кому. Ты вот что, мажь себе картинки без истолкований. А злость, что ж — это верно, злость и досада. На тебя — злость и досада, тобой же вызванная. Гордыня твоя и упрямство твое — в них причина досады и пятен. А Шартрез — это так, фон. Хуже, когда фоном служит политура. Иль вовсе без всякого фона — вот тогда совсем паршиво. В мое время фоном служил абсент. Но я не жаловался. Абсент, так абсент. И ты не жалуйся.
— Нет, Поль, я не жалуюсь. А только хочу абсенту, так ведь нет его, запрещен абсент. Поль, а Поль, а коньяк фоном быть может?
— Может быть фоном и коньяк. И не только фоном. Когда есть коньяк, тут и пятен не нужно. И ты это знаешь не хуже меня. Коньяк примиряет с действительностью — я ли это говорил?
— Да, Поль, да. Ты прав, ты во всем прав. И на счет примирения. Это же мой метод, мои слова. Но для примирения нужен, все-таки, коньяк. А если и его нет? Тогда как?
— Так и у меня абсент не всегда был, агавами его не заменишь. А сейчас есть айгешат — примем, что есть. Твое здоровье!
— Твое здоровье, Поль Гоген!...
о ты мне скажи, как же ящик, сандалового дерева ящик? И ласки янтарнокожих, и песни под пальмами?
— Привереда ты, брат, однако. Дался тебе этот ящик. Знал бы ты, что там, на дне. А там письма. Ты их читал? Их много, но ни одного, понимаешь, ни одного такого, как у тебя. Ведь есть у тебя твой чемодан. Я знаю, что в нем хранится. Ведь там же все, слепец, — и Южный Крест, и агавы, и океан. Вспомни. Вспомни и о тех двух, что его наполняли. Вспомни о мальчике, маленьком мальчике с глазами ранней сирени — ведь так рассказывал ты о нем. И о девочке вспомни, совсем крошечной, которая обнимает тебя крепко, обвиваясь как лиана — обнимает руками и ногами. И обняв, замирает надолго. Под тропическими звездами не о признании я мечтал, не о богатстве, нет. А прежде всего — о ласке, ласке такой же маленькой девочки, дочери моей. И рвался к ней из объятий дикарок — что мне в них. В холодную парижскую конуру рвался...
...Где дарила ты мне свои ласки, Алина, и детскую свою любовь. И не было агав и океана. А были сырость, голод и тревога. Но была ты, Алина. Милая моя Алина. Ни разу не отвернувшаяся от меня. Лишь один упрек я услышал — зачем ты уходишь от меня, папа?! Мог ли я сам, своей волей, уйти от тебя, Алина. Куда б я от тебя уплыл, на какие острова, за какие Мытищи. Если б не погнали. Не сказали — изыди, нет тебе здесь места. Беда, беда, беда... Что, что я мог ответить ей?... Если бы ты оставила мне такой вот чемодан, какой есть у этого неврастеника...
...Так не выезжал, говоришь, дальше Мытищ?
— Прости, Поль, зря я это — про Мытищи, не буду больше. И агавы. И абсент. И тропики. Не важно все это. А важна лишь Алина. Иногда мне кажется, что она нас и познакомила.
— Да, Алина нас познакомила. Так и сказала — иди, Поль, вон к тому тоскующему неврастенику. Ему сегодня 37, он намалевал очередную бредятину, и ему хреново. Он хлещет айгешат и странствует в одиночестве. Как бы не заблудился. Ты ведь знаешь, каково странствовать в одиночестве... Иди и напомни ему обо мне. Напомни, как я, Алина, умею обнимать его руками и ногами. Он тоскует без дикарских песен. Я спою ему все песни. Я расскажу ему все сказки. Иди к нему. Он не будет одинок с нами. —
— Так сказала Алина. И, после все сказанного — ты одинок сейчас?
— Нет, Поль, сейчас я не одинок. Сейчас мне хорошо... Твое здоровье, Поль Гоген... И пусть наше путешествие длится вечность...
...мне было бы плохо без тебя...
...без тебя и Алины...
Твое здоровье, Поль Гоген.
1994 г. Лето (мне 38)
![]()